Воспоминания свидетелей войны никогда не перестанут волновать сердца людей. Они по крупице воссоздают картину хода войны, оккупацию и жизнь мирного населения, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками далеко за линией фронта. Время идет, забирая очевидцев тех страшных лет, грозясь оставить свидетельства о них лишь на страницах книг.
Помните домовитых Кузьку и Нафаню с их сундучком, в котором они бережно хранили сказки? Я всегда с замиранием сердца слушаю истории тружеников тыла, детей войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, и как те домовята, стараюсь собирать их и беречь.
Александра Ивановна Новикова приехала в гости из Калуги в Игоревскую к внучатой племяннице Анне, в сентябре этого года она отметила восьмидесятишестилетие, до сих пор отчетливо помнит годы войны, часто вспоминает о них и делится с домочадцами.
Моё село – Заборовка
Александра Ивановна родилась в селе Заборовка Перемышльского района Калужской области, где росла в небольшой семье — мать Ольга, отец Иван и младший брат Ванюша.
— Наша Заборовка — село, не деревня, потому что у нас была церковь. Мать родилась в 1916 году, ее там крестили. Я не знаю, в каком году она построена, но и сейчас церковь стоит. Село находится в двадцати километрах от Калуги, в нем было около девяноста домов,- объясняет мне собеседница. — Дом у нас был добротным, стоял у непроторенной дороги, по ней только на поля ездили, а через сенцы был еще один, там жили бабушка Груша с дедушкой Николаем (по маме). Бабушка умерла в сороковом году, деда мать взяла жить к себе. Он прошел финскую войну, где на болотах совсем сгубил свои ноги. Отца нашего в сорок первом забрали на войну.
Мне шел шестой годок, когда немцы пришли в наше село. Как сейчас помню — погода в тот день была очень хорошая. Приехали они на мотоциклах, сначала на одиночных, потом с люльками, за ними «шли» огромные фургоны, запряженные упитанными лошадьми необычного окраса — коричневые с проседью.
Говорили, что немцы любят чистоту, и мама в дедовом доме все перевернула, стены ободрала, они туда и заходить не стали, а ввалились к нам в дом, сапоги на них были начищены до блеска и словно горели, обмундирование зеленое, все одеты с иголочки. Пришли и стали хозяйничать — переставили стол к окну, притащили соломы в хату, разлеглись, как у себя дома, заставили деда растопить печь и сварить им картошки. Сидели и караулили ее у печки, а как только дед ухватом вытащил чугунок, немец взял его тряпкой и высыпал картошку прямо на стол. Они вчетвером уселись за стол, каждый достал мензурочку, то ли с маслом, то ли с солью, ели картошку прямо с кожурой, и громко ржали…
Мы с братом притаились на кровати, которую мать отгородила шторой от незваных гостей. Вещи, что получше, и муку мать спрятала в погребе во дворе.
Помню, это было в ту пору, когда картошку выкопали, мы всегда старались управиться к двадцать первому сентября, в этот день празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Двор у нас был большой, и делился на две части: на одной размещались корова, овцы и куры, а на другой — поросенок. Немцы скотину не трогали, только кур палками сшибали — били по лапам и головы скручивали.
Немцам приглянулся наш двор, и они с финнами решили ставить туда своих лошадей. Мать не смогла отговорить, а деда Николая послушали, увели лошадей, а позже ушли от села за четыре километра в сторону Калуги, но часто возвращались — кур сшибать да на разведку.
В моей памяти глубоко отпечатался один случай. Это было зимой, день солнечный и морозный, снега намело столько, что вишни в саду под ним скрылись. Тогда немцы снова пришли за курами, а встретились им наши солдаты. Дед оказался недалеко от того места, спрятался в заброшенном сарае, и увидел страшное: двух солдат убили, а над офицером жестоко издевались — отрезали уши, язык, выкололи глаза и на лбу вырезали звезду…
Зимой сорок первого года в нашем и соседнем доме располагался медсанбат, к нам привозили погибших и раненых. Лекарств не было, даже спирта, чтобы раны обработать, раненых просто перевязывали и укладывали рядом друг с другом. Мать сначала боялась даже подходить к ним, а потом стала помогать. Дед изловчился на картошке самогон гнать, получались граммы, но все было для солдат.
Потом всех погибших похоронили на кладбище в одной могиле.
«Я скоро приду»
В июне 1941 года в Заборовский сельсовет прислали бумагу, по которой из села и ближайших деревень собрали мужчин, что еще не ушли на войну.
— Пошли без куска хлеба, в чем есть. Мой трехгодовалый братик бежал по полю за отцом: «Пап, а куда ты? Скажи, куда ты?» Отец отвечал: «Иди, я скоро приду», и пришел, но только в сорок шестом году, — вспоминает Александра Ивановна.
До Калуги мужчины шли пешком, через Оку — вплавь, переправ не было. Из Калуги поездом добрались до Вязьмы, и попали прямиком в лапы врага — город уже был опутан колючей проволокой, где вовсю гужевал немец, отодвинутый от Москвы.
— Отец рассказывал, что немцы загнали всех за колючую проволоку и высыпали несколько ведер свеклы, люди, обезумевшие с голоду, дрались за еду, душили друг друга. Кто резвее и умнее — выжили, их посадили в поезд и увезли на Украину в лагерь, который располагался глубоко в земле, в яме, а чтобы подняться наверх — неси с собой большой камень. Немцев это забавляло, они издевались — сбрасывали людей обратно вместе с камнями. Отец был крупной комплекции, а там совсем иссох.
Папа был в плену у немецких захватчиков до апреля 1945 года. Некоторых узников отдавали украинским помещикам на пашню. Отец попал в их число. В шесть утра — подъем, людей запрягали в плуги вместо лошадей, в обед час перекура и похлебка, потом опять за работу. Отец вспоминал: «Ляжешь под застрехой и думаешь — хоть бы умереть на свежем воздухе, а не в бункере», — делится рассказами отца Александра Ивановна.

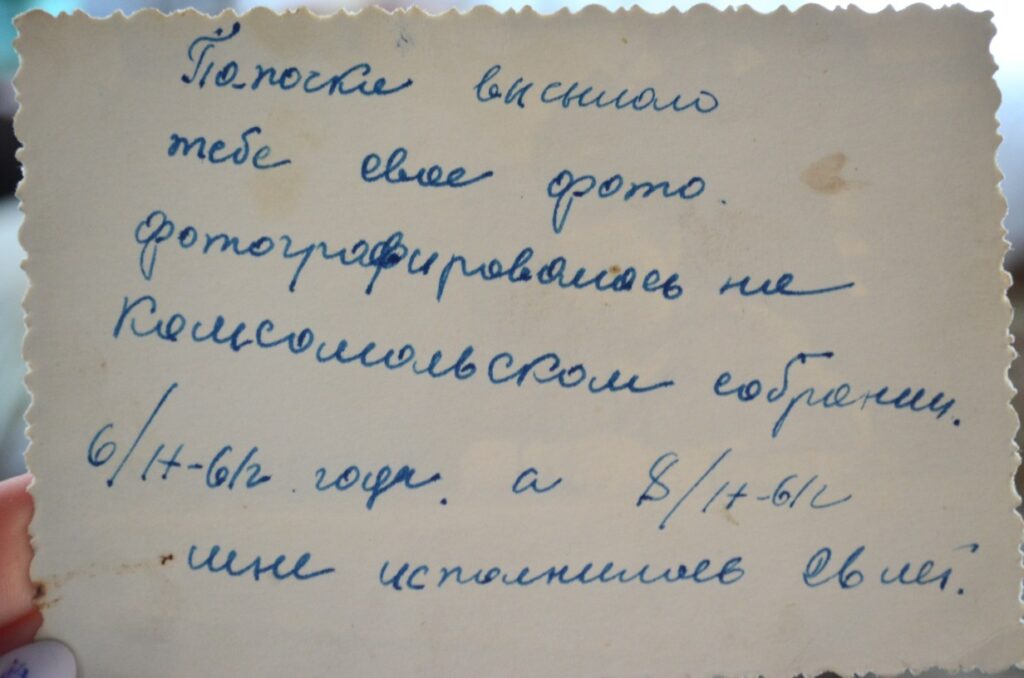
Не женская профессия
После семи классов юная Александра, по совету учителей, решила поступать в педагогическое училище в Калуге. Отнесла документы, но после первого сбора желание пропало:
— Посмотрела я на тех студентов — все хорошо одетые, обутые, а мы жили бедно, на мне была простенькая кофтенка, платье, что мать сшила, тапки тряпочные, на голове — платок. Решила, что не пойду я сюда, надо будет — доучусь позже, и забрала документы. В Калуге я жила у отцова дяди, пришла и заявила — не буду учиться, пойду работать. А он мне: «Вот только сейчас по радио объявили, что на стройку нужны работники». Туда я и пошла. Работала, жила в общежитии, ходила в вечернюю школу, где окончила восьмой, девятый и десятый классы.
Мне было всего девятнадцать лет, я была не замужем, и однажды прораб мне говорит: «Сейчас обрешетку привезут, тебе все равно делать нечего, прими. Крановщик парень молодой, заметил, что я с интересом наблюдаю, как он ловко из кабины краном управляет, кричит:»Тебе это нравится?» Я: «Да».
На следующий день он мне показал, как этой машиной управлять, я быстро смекнула, и в этот же день стала оконные блоки разгружать. Не всем самовольность понравилась, но крановщик заступился, и начальство предложило обучиться по брошюрке, так я сдала экзамен на крановщика, — улыбается собеседница.
Александре Ивановне оказалась по душе полученная не женская профессия, десять лет она работала на стройке, испробовав строительную технику разных размерных групп — однотонные, двухтонные, трехтонные. После устроилась на строительно-монтажный завод, где собиралась трудиться на кране, но башенными завод еще не обзавелся, а цеховой был занят другой женщиной. Согласилась на работу помощницы фрезеровщика, а вскоре установили любимую технику, на которой, за исключением коротких периодов, трудилась вплоть до семидесяти пяти лет.
Человек с твердым характером, решительный, ответственный и очень трудолюбивый — такой я увидела Александру Ивановну. Работа была приоритетом в ее жизни, о чем свидетельствуют многочисленные почетные грамоты и благодарности за добросовестный труд. Ей доверяли подменить человека любой профессии — секретаря, вахтера, сотрудника отдала кадров и даже кассира, который должен был раздать зарплату всему заводу. Ей доверяли, в нее верили и не ошибались.
Виктория СМИРНОВА











































































































